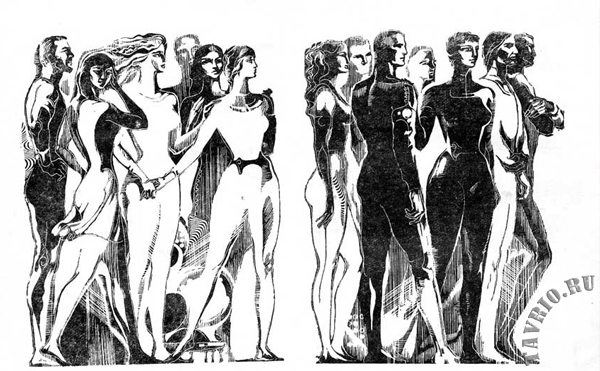 Государство и дети в русской фантастике
Государство и дети в русской фантастике
Бывает, два человека хотят связать судьбы, они очень стараются, но какое-то фатальное неумение быть вдвоем, не ссорясь и не раздражаясь, не привередничая и не выясняя отношений, раз за разом ставит крест на их благом намерении. Ну, не ладится. Не получается. Всякая встреча, всякий разговор состоят из маленькой радости в самом начале и бесконечного неудобства потом. Например, вот так: «Ну почему каждый разговор с ней начинается и кончается выяснением, кто что имел в виду и почему имел?.. Куда деваются чуткость, такт и понимание? Почему исчезает чуть не рефлекторное умение вести отменную беседу с почти любым собеседником? Очевидно, она не входила в эту когорту "почти любых". Или я выпадал из нее».
Неуклюжесть какая-то, верно?
Как будто у двух взрослых людей атрофировано умение ладить друг с другом, подчиняясь доброму чувству. И пусть вначале отношения складывались чудесно, потом все равно - бесконечный разлад. Вот как здесь: «На сентябрьских торжествах я познакомился с Диной. До моего Выпуска оставалось четыре года, а до ее - три. Поначалу все было хорошо, но через год я вернул ей Слово, потом у нас наладилось, затем опять мы запутались. Так, в общем, до сих пор ни я, ни она не разобрались, что кому надо. Каждый остался при своем Слове, с ним, наверно, и успокоимся. Не судьба».
Ну, а теперь представим себе, что таким людям отдают на воспитание ваших детей. Не на год. Не на два. На полтора десятилетия. И эти люди станут для сына или дочери самыми близкими на свете существами, демиургами личности. Теми, кто возьмется развивать их природные способности, оснащать интеллект мощным инструментарием, следить за здоровьем тела и разума.
Одним словом, Наставниками.
Именно так, с большой буквы.
В самом возвышенном и, одновременно, самом практическом смысле этого слова. Так, как веками мечтали педагоги.
Ответьте на вопрос: есть ли у вас желание отдавать своих детей людям, которые начисто лишены умения любить?
Ведь все эти штуки с неладами, они же только так и объясняются.
Так что, отдаете или нет?
Нет?
Ну, и я бы не отдал.
А надо.
Таковы правила игры в мире, который нарисовал Эдуард Геворкян на страницах рассказа «Прощай, сентябрь!».
Там, в его будущем, Учитель, вернее. Наставник - вседержитель воспитания. Это самая главная профессия. Она требует очень долгой и очень основательной подготовки.
Судите сами - вот что вспоминает Учитель Шамиссо:
«После полугодового карантина я вошел в основную группу школы 221, Базмашен. Физподготовку я любил, раза два даже брал призы на стендах, поэтому первого года не боялся. И напрасно! Нас гоняли покруче, чем на всех штурманских курсах вместе взятых. Если у кого-то было особое мнение о своих способностях, то оно выветрилось через неделю, после канатных пятнашек, бега с подвязками и мокрых простынь. Ровно год шлифовали нашу мускулатуру и психику. Тесты и кроссы, гокинг и нервные бревна, батут и колодец... Главное началось потом! Первый год обучения мы долго вспоминали, расслабленно улыбаясь. Теперь уже шел не прыг и скок, а усиленный курс всех наук, в компакте, конечно, при этом никакой гипнопедии или нейродопинга. Десять часов в неделю, двадцать часов в неделю, а к концу второго года - десять часов каждый день. Лучшие обучающие системы, отменные Наставники, консультации ведущих мотиваторов, экзамены шесть раз в году, две недели отдыха, и опять занятия, экзамены, лавина информации, мозг распирает, а попробуй не перевари или забудь, попробуй на экзамене не ответить на блиц-опрос по совершенно другой теме. Пять лет в школе стоили тридцати до нее. В день Клятвы многим из нас было уже тридцать пять. Затем год общения, год стажировки, коррекция и гармонизация педагогической премудрости. Наконец я получил свою Десятку. Первую и, конечно, единственную. Пятнадцать лет вместе».
Наставник чувствует себя Творцом, «круто замесившим глину». Он него зависит, когда и в какую сторону производить мягкую «коррекцию» детских умов и детских характеров, а где переходить к «активному воздействию».
Наставник имеет колоссальную власть над детьми. А заодно и... над родителями. К тому времени, когда происходит действие рассказа, традиционная семья демонтируется вот уже три века. Так называемых «персоналистов», то есть личностей, выпавших из глобального, охватившего всю ойкумену землян процесса воспитания «десятками», осталась сотая доля процента. И только они испытывают сомнения: все ли возможности старой этики перепробовали перед тем, как сломали ее? Прочие земляне не возражают против воспитания по стандарту - как только дети чуть подросли, Наставник отгораживает их от родителей. По всему миру. Незачем непрофессионалам влиять на столь тонкое дело, как воспитание и обучение! Папы с мамами имеют, конечно, возможность увидеть своих чад раз в неделю, но все остальное время - жесткий режим интерната.
И в этих условиях детям по всей Земле вдалбливают единый курс Истории Разума, отучающий сомневаться в том, что нынешний порядок - лучшее из возможного. Иными словами, система воспроизводит себя с железной последо-вательностью.
Стоит напомнить: воспроизводится она усилиями тех самых недотеп, которые не могут устроить собственную личную жизнь...
Внешне система воспитания - само совершенство.
В то же время изнутри Эдуард Геворкян подкладывает под ее здание одну бочку пороха за другой.
Традиционная семья уничтожена, и вот уже искусство строить отношения не дается даже лучшим людям планеты.
Глухая безальтернативность воспитания - что она такое: развитие лучшего или путь в тоталитарную антиутопию?
Наконец, имя у главного героя явно говорящее. Шамиссо - ученый, педагог и писатель времен наполеоновских войн. Скитаясь по Европе, он почувствовал, что теряет привязанность к родному народу, родной земле, но и к другой нации и другой стране привязаться не способен. Идет война - за кого он? На чьей стороне? Что он такое? В 1813 году Шамиссо написал романтическую сказку «Удивительная история Петера Шлемиля». Главный герой продал свою тень и в мучениях ищет ее повсюду... Вот и его духовный наследник - Учитель из рассказа Геворкяна - чувствует какую-то потерю, какую-то пустоту в себе, мучается от странных снов, но не знает, что именно потерял.
В сущности... он потерял всё, кроме профессии. У него нет семьи, ибо семья в принципе размонтирована. У него нет любви, потому что некому было учить его любви. Он не знает привязанности к местам, дорогим его сердцу, не может бросить якорь в близкой ему культуре, истории, у него нет и быть не может родного народа: всё глобально, всё едино, нет никаких особенностей, мир - как ровное футбольное поле, залитое солнцем, и нечему отбрасывать тень.
Ни бугорка, ни ямки, всё везде одинаково.
Хорош ли мир, где нет ничего, кроме работы, хотя бы и воспринимаемой в высоком смысле, как творчество?
Кому как, знаете ли.
Рассказ «Прощай, сентябрь!» появился в 1985 году. По глубинной сути своей он был осторожным возражением обширной и весьма влиятельной традиции в советской фантастике.
В рамках этой традиции как раз утверждалось мнение, что родителю не стоит заниматься воспитанием и обучением ребенка. Родителя надо отсечь от его отпрыска или, как возвышенно говорили в 60-х, «освободить», дав тем самым мощный импульс личному развитию. Место папы и мамы следовало занять профессионалам, настоящим интеллигентам, высоконравственным педагогам, коих неоскудно производило... ох, прошу прощения... должно было производить блистательное коммунистическое будущее.
Разумеется, не все советские фантасты проявляли влюбленность в интернаты и незыблемую веру в наставников-профи. У того же Кира Булычева, например, девочка Алиса, из будущего и все ее друзья учатся в обычной школе, живут с родителями, лопают домашние пельмени и воспитываются самым обычным образом, совершенно не возвышенно. Ее одноклассник по имени Аркаша однажды заявил, что зарыл свою скрипку в землю. Родня в недоумении. Что за странный поступок? Но папа, догадываясь кое о чем, расспрашивает мальчика:
«- Скажи, сын, ты любишь играть на скрипке?
- Ненавижу, - ответил сын.
- Я так и понял. А что ты любишь делать?
- Я люблю компьютер, - сказал мальчик, - и еще я люблю заниматься биологией. Я никогда не стану музыкантом.
- Я вижу, что мальчик прав, - сказал папа. - Иди в лес, принеси несчастную скрипку, и я клянусь, что больше мы тебя мучить не будем.
- Ура! - закричал Аркаша и побежал на второй этаж, где под кроватью лежала невредимая скрипка».
Где тут высокий профессионал - Наставник, который живо сделал бы парню коррекцию головного мозга в сторону правильного развития? Всё обошлось благодушными словами мудрого папаши. Никакой научной методики!
Но повести и рассказы о приключениях Алисы предназначались детям. А взрослая аудитория получила совсем иной образ педагогики будущего. Создали его титаны советской фантастики, писатели с колоссальным авторитетом. Во-первых, Иван Ефремов, во-вторых, братья Стругацкие.
Роман Ефремова «Туманность Андромеды» вышел в 1957 году. Несколько лет он являлся самой известной на просторах СССР утопией. Позднее родился «Полдень, XXII век» Стругацких - нечто равновеликое в идейном смысле и, безусловно, более высокое в смысле художественном.
Ефремов, как настоящий ученый, создал роман-монографию, своего рода футурологический трактат. Там космическим исследованиям, контакту с внеземными цивилизациями, искусству, науке будущего отводится по 1-2 параграфа... ой, то есть, конечно, главы. Беллетризация тезисов о грядущих судьбах человечества у Ивана Антоновича довольно условная. Герои без конца произносят монологи и диалоги, озвучивающие авторский идеал для всего и вся. Ефремов особенно не утруждает себя переводом громадных философических пассажей на язык художественной литературы. Методика правильного устройства будущего - дело серьезное, ей, знаете ли, подобают солидные формулировки, к чему тут все эти литературные игрушки?!
Без главки, посвященной образованию, конечно же, роман-трактат оказался бы неполон. И Ефремов, с присущей ему основательностью, «прорабатывает вопрос».
Он - сторонник интернатов, куда родителей допускают лишь для нечастых свиданий. Его идеи выражены ясно и однозначно:
«Учитель - в его руках будущее ученика, ибо только его усилиями человек поднимается всё выше и делается всё могущественнее, выполняя самую трудную задачу - преодоление самого себя, самолюбивой жадности и необузданных желаний... Воспитание нового человека - это тонкая работа с индивидуальным анализом и очень осторожным подходом. Безвозвратно прошло время, когда общество удовлетворялось кое-как, случайно воспитанными людьми, недостатки которых оправдывались наследственностью, врождённой природой человека. Теперь каждый дурно воспитанный человек - укор для всего общества, тягостная ошибка большого коллектива людей».
Следовательно, без Учителей и Наставников с больших букв не обойтись...
Одна из любимых героинь Ефремова, Веда Конг, размышляет об умении учить:
«...драгоценнейшей способности в эпоху, когда наконец поняли, что образование, собственно, и есть воспитание и что только так можно подготовить ребёнка к трудному пути человека. Конечно, основа даётся врождёнными свойствами, но ведь они могут остаться втуне, без тонкой отделки человеческой души, создаваемой учителем».
Остальные идеи Ефремова - не из философской сферы, а из чисто технической. Дети учатся большими классами, четыре цикла по три года; в конце каждого цикла их переводят в другое место, ибо «психика утомляется и тупеет в однообразии впечатлений», а «совместная жизнь разных возрастных групп мешает воспитанию и раздражает самих учащихся». Программа постоянно обновляется, ей нельзя отстать от новейших веяний в науке. Школы должны строиться на природе, ибо человеку нельзя отучиваться от «тонкого общения с природой», и если внимание к ней притупится, то личность остановится в развитии.
В программе Ефремова нет ничего фантастического, помимо глобальной системы интернатов. Всё остальное воспринималось в качестве предложений, как улучшить советский наробраз, и каждое из этих предложений - родное и близкое для второй половины 50-х.
Стругацкие приняли главную идею Ефремова как собственную.
Да и только ли Ефремову она принадлежала? Аркадий Натанович Стругацкий, эвакуированный по военной поре из блокадного Ленинграда, провел какое-то время в детском доме. Идеи Макаренко витали над нивами советской педагогики. Время от времени в дискуссиях по части образования звучало: такой-то и такой-то специалисты уверены в полнейшей благотворности интернатов; желательно «интернатизировать» и простые школы.
Правда, интернаты не вписывали бы, вероятно, с такой настойчивостью в светлое будущее, кабы они не оставались необходимым следствием страшной трагедии: массовая безотцовщина послевоенных лет являлась естественной час-тью советской жизни... И как было с нею справляться без интерната и детдома? В стране - море инвалидов, океан беспризорников, несчитанное множество неполных семей, махровая уголовщина, рекрутирующая из дворовой шпаны новые и новые тысячи воров с душегубами, а вместе с тем доверху, с горкой набивающая колонии для малолетних преступников. Иначе говоря, бесчисленная армия детей уже передана в условия голодного брутального быта разного рода «детприемников». Можно пойти двумя путями - потихоньку улучшать жизнь в стране, стимулировать укрепление семьи, раздачу сирот в бездетные семьи, т.е. решать проблему долго, нудно, но надежно; а можно обожествить эти самые детприемники, воспеть грядущих чудесных воспитателей, которые туда когда-нибудь придут, объявить детдомовский быт нормой, к которой надо подтягивать педагогику... Второе выглядит ярче, резвее, эффективнее... если не приглядываться. Еще один глоток «революционной романтики», пусть и несколько запоздалый.
По всем этим причинам для Стругацких, как, впрочем, и для значительной части послевоенной интеллигенции, концепт «интернатизации» ничего шокирующего в себе не содержал.
Итак, через пять лет после появления «Туманности Андромеды» у Стругацких в сборнике «Полдень, XXII век» возникает глава «Злоумышленники». Антураж - некий Аньюдинский интернат, башковитые и отчаянно смелые шалопаи, изредка посещаемые родителями, когда тем дают отпуска.
«Четверка обитателей 18-й комнаты была широко известна в пределах Аньюдинской школы. Это было вполне естественно. Такие таланты, как совершенное искусство подражать вою гигантского ракопаука с планеты Пандора, способность непринужденно рассуждать о девяти способах экономии горючего при межзвездном перелете и умение одиннадцать раз подряд присесть на одной ноге, не могли остаться незамеченными, а все эти таланты не были чужды обитателям 18-й».
Они задумали головокружительно авантюрное дело, которое грозило самыми печальными последствиями. А добрый и вы-сокопрофессиональный учитель Тенин раскрыл заговор мальчишек, вовремя остановил рискованную затею... попутно, правда, поставив на своих подопечных странный этический эксперимент. Мягко говоря, на грани фола.
История аньюдинской четверки получила безумную популярность. Читатели разбирали ее на детальки как какое-нибудь пособие по педагогике, анализировали, но больше все- таки восхищались: как смело, как энергично написано!
Из этой истории выросла чуть ли не главная тема творчества Стругацких (как минимум, она оказалась в числе главных!) - воспитание.
Через много лет в их повести «Гадкие лебеди» появится странное училище мокрецов, и там дети будут отделены от родителей наглухо. Вслед за тем - блистательный лицей из повести «Отягощенные злом», а на финише всей творческой деятельности Бориса Натановича Стругацкого, в его сольном романе «Бессильные мира сего», - группа некоего мэтра, способного развивать в учениках сверхчеловеческие таланты.
Если в аньюдинской школе из детей делали продолжение лучшего мира - блистательной цивилизации единого человечества - то в более поздних текстах Стругацкие вкладывали в педагогику совершенно иной смысл. А именно, выращивание в детях того, что изменит или, еще того лучше, - похоронит мир старый, ни в чем не соответствующий идеалам интеллигенции. Иначе говоря, выращивание другого мира.
Но во всех случаях, от самой ранней, аньюдинской, версии до «Бессильных мира сего» наставник, т.е. интеллигент и профессионал, подавался как безусловно предпочтительная персона по сравнению с родителями, так или иначе влияющими на воспитание детей. Родители - помеха. Родители - обуза. А порой родители - беда для ребенка. Доверять им столь тонкое дело, как образование и воспитание собственных отпрысков, значит рисковать. Как бы не случилось большой человеческой аварии!
Откровеннее всего это неприятие высказано в повести «Далекая Радуга» (1963).
Тот же самый благословенный XXII век. Интернат-система получила вид глобальной сети. Но если родители желают сами возиться с ребенком... что ж, система не станет насиловать их «инстинкты», пусть они и рассматриваются как атавизм.
Вот большой управленец Матвей Вязаницын беседует с Леонидом Горбовским - сквозным героем нескольких повестей Стругацких, носителем авторской этики. Они обсуждают супругу Вязаницына, Женечку, решившую не отдавать ребенка на общественное попечение:
«- Она с ним сначала ужасно мучилась. Жаловалась. "Нет, - говорит, - у меня материнского чувства. Урод я. Дерево". А дотом что-то случилось. Я даже не заметил как. Правда, он очень славный поросенок. Очень ласковый и умница. Гулял я с ним однажды вечером в парке. Вдруг он спрашивает: "Папа, что это приседает?" Я сначала не понял. Потом... Понимаешь, ветер, качается фонарь, и тени от него на стене. "Приседает". Очень точный образ, правда?
- Правда, - сказал Горбовский. - Писатель будет. Только хорошо бы отдать его все-таки в интернат.
Матвей махнул рукой.
- Не может быть и речи, - сказал он. - Она не отдаст. И ты знаешь, сначала я спорил, а потом подумал: "Зачем? Зачем отнимать у человека смысл жизни?" Это ее смысл жизни. Мне это недоступно, - признался он».
Итак, «хорошо бы отдать его в интернат». Интернат - норма. Материнский инстинкт - реликт. Позиция Стругацких: от таких реликтов не жди добра. Некоторое время спустя на сцену выходят сама Женечка и ее чадо. Планета Радуга претерпевает катаклизм, грозящий гибелью всему населению. Горбовский, капитан маленького звездолета «Тариэль», может вывести на орбиту одних только детей. Если набить космический корабль битком, до страшной духоты и скученности, если взять минимум воспитателей, если самому Горбовскому остаться на планете, то влезут все дети.
Но не родители.
Женечка не может смириться с расставанием, происходит некрасивая сцена. Пожалуй, стоит привести ее целиком, невзирая на большой объем. Уж очень она показательна:
«Она [Женечка Вязаницына] слабо махнула свободной рукой.
- Я не знаю, что делать с Алешкой, - сказала она. - Он у нас совсем домашний. Он даже в детском саду никогда не был.
- Он привыкнет. Дети очень быстро ко всему привыкают, Женечка. И ты не бойся: ему будет хорошо, [отвечает Горбовский].
- Я даже не знаю, к кому обратиться.
- Все воспитатели хороши. Ты же знаешь это. Все одинаковы. Алешке будет хорошо.
- Ты меня не понимаешь. Ведь его даже нет ни в каких списках.
- И чего же тут страшного? Есть он в списках или нет, ни один ребенок не останется на Радуге. Списки только для того, чтобы не растерять детей. Хочешь, я пойду и скажу, чтобы его записали?
- Да, - сказала она. - Нет... Подожди. Можно я поднимусь вместе с ним на корабль?
Горбовский печально покачал головой.
- Женечка, - мягко сказал он. - Не надо. Не надо беспокоить детей.
- Я никого не буду беспокоить. Я только хочу посмотреть, как ему там будет... Кто будет рядом...
- Такие же ребятишки. Веселые и добрые.
- Можно я поднимусь с ним?
- Не надо, Женечка.
- Надо. Очень надо. Он не сможет один. Как он будет жить без меня? Ты ничего не понимаешь. Все вы совершенно ничего не понимаете. Я буду делать все, что нужно. Любую работу. Я ведь все умею. Не будь таким бесчувственным...
- Женечка, посмотри вокруг. Это матери.
- Он не такой, как все. Он слабый. Капризный. Он привык к постоянному вниманию. Он не сможет без меня. Не сможет! Ведь я-то знаю это лучше всех! Неужели ты воспользуешься тем, что мне некому на тебя жаловаться?
- Неужели ты займешь место ребенка, который должен будет остаться здесь?
- Никто не останется, - сказала она страстно. - Я уверена, что никто! Все поместятся! А мне ведь совсем не надо места! Есть же у вас какие-нибудь машинные помещения, какие-нибудь камеры... Я должна быть с ним!
- Я ничего не могу сделать для тебя. Прости.
- Можешь! Ты капитан. Ты все можешь. Ты же всегда был добрым человеком, Леня!
- Я и сейчас добрый. Ты себе представить не можешь, какой я добрый.
- Я не отойду от тебя, - сказала она и замолчала.
- Хорошо, - сказал Горбовский. - Только давай сделаем так. Сейчас я отведу в корабль Алешку, осмотрю помещения и вернусь к тебе. Хорошо?
Она пристально глядела ему в глаза.
- Ты не обманешь меня. Я знаю. Я верю. Ты никогда никого не обманывал.
- Я не обману. Когда корабль стартует, ты будешь рядом со мной . Давай мальчика.
Не отрывая глаз от его лица, она как во сне подтолкнула к нему Алешку.
- Иди, иди, Алик, - сказала она. - Иди с дядей Леней.
- Куда? - спросил мальчик.
- В корабль, - сказал Горбовский, беря его за руку. - Куда же еще? Вот в этот корабль. Вон к тому дяде. Хочешь?
- Хочу к тому дяде, - заявил мальчик. На мать он больше не смотрел.
Они вместе подошли к трапу, по которому поднимались последние ребятишки. Горбовский сказал воспитателю:
- Внесите в список. Алексей Матвеевич Вязаницын.
Воспитатель посмотрел на мальчика, затем на Горбовского и кивнул, записывая. Горбовский медленно поднялся по трапу, перетащил Алексея Матвеевича через высокий комингс, подняв за руку.
- Это называется тамбур, - сказал он.
Мальчик подергал руку, освободился и, подойдя вплотную к Перси Диксону, стал его рассматривать...
Патрик... улыбался. Кивая, они попятились к толпе. Женя стояла под самым люком, и Горбовский помахал ей рукой. Потом он повернулся к Диксону.
- Жарко? - спросил он.
- Ужасно. Сейчас бы душ принять. А в душевых дети.
- Освободите душевые, - сказал Горбовский.
- Легко сказать, - Диксон тяжело вздохнул и, скривившись, оттянул тесный воротник мундира. - Борода лезет под воротник, - пробормотал он. - Колется невыносимо. Все тело зудит.
- Дядя, - сказал мальчик Алеша. - А у тебя борода настоящая?
- Можешь подергать, - сказал Перси со вздохом и нагнулся.
Мальчик подергал.
- Все равно ненастоящая, - заявил он.
Горбовский взял его за плечо, но Алеша вывернулся.
- Не хочу с тобой, - сказал он. - Хочу с капитаном.
- Вот и хорошо, - сказал Горбовский. - Перси, отведите его к воспитателю».
Ну как тут не сделать читателю вывод, что назойливая опека матери делает как из сына, так и из нее самой нравственных инвалидов? Два капризных эгоцентрика, два асоциала... Доверять ли - как будто спрашивают Стругацкие читателя - после таких вот фокусов воспитание детей простым и невнятным родителям? Что они еще отчубучат! Вы еще не убедились, что наставник - эффективнее? Вы еще не голосуете за наставника? Вы еще не готовы отдать своего ребенка в интернат?
Да не атавизм ли вы сами?!
Ну да, ну да...
//Дети холодного мира. - Луганск, "Шико", 2014 г. (Начало) - с. 494-514.